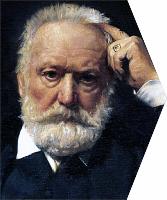
Две самые известные баррикады из числа тех, которые мог наблюдать исследователь социальных болезней, не принадлежат к тому периоду, который описывает эта книга. Обе эти баррикады являются символом той грозной эпохи, которая вызвала их появление на улицах Парижа. Это было в дни фатального июньского восстания 1848 года* — года, видевшего самые грандиозные уличные бои, какие только бывали в истории.
Иногда бывает так, что "чернь" бросается в битву с "народом", вопреки принципам, вопреки свободе, равенству и братству, пренебрегая правом всеобщего голосования, восставая против власти всех и вся, бросаясь с протестом, из безысходной глубины своего отчаяния, своей безнадежности, своих болезней, нищеты, нужды, своего ужасающего мрака и невежества. "Чернь" восстает против "народа", гезы* нападают на общественное право, охлократия* восстает на демос.
Вот откуда эти трагичные дни. Всегда есть значительная доля истины в этом общественном безумии; есть что-то похожее на самоубийство в этой дуэли человеческих принципов. А эти обозначения, имеющие целью оскорбить: гезы, плебеи, охлократия, чернь... Увы! Они констатируют лишь преступление тех, кто господствует, а не вину тех, кто страдает. Скорее преступление привилегированных классов, нежели вину обездоленных.
Что касается меня, то я никогда не произношу этих имен иначе как с чувством горя и уважения к ним, ибо философ, углубляющийся в явления, соответствующие этим названиям, видит наряду с их отверженностью также их величие. Афинская республика была охлократией; гезы создали Голландию; плебеи были постоянными спасителями Рима и, наконец, чернь последовала за Иисусом Христом. Нет мыслителя, который не созерцал бы в задумчивости величавости человеческого дна. Именно об этой "черни" и размышлял святой Иероним.
Из среды этих голодранцев, из этой бедноты, из этих бродяг и отверженных вышли апостолы и мученики, о них сказаны эти таинственные слова: Fex urbis, lex orbis {Подонки столицы — это законодатели вселенной (лат.).}.
Ожесточение нищей, страдающей толпы, ее кровоточащие раны, ее бессмысленный бунт против начал своей же жизни, пути, избранные ею для борьбы с законом, — все это государственный переворот, все это подлежит подавлению. Но честный человек должен признать, что, даже выступая против восставших по обязанности, он должен любить ее. Но как он может уважать, чтить, любить и все-таки противодействовать массе? Это тот редкий момент, когда исполнение долга до такой степени бывает мучительным, что порой, соблюдая присягу, он вдребезги разбивает целостность духа и невыносимо терзает свое сердце.
Июнь 1848 года, спешу это отметить, почти не находит себе места в философии истории. Все слова, сказанные нами, ничего не выражают, когда речь идет об этом необычайном восстании, в котором чувствуется священная мука труда, провозглашающего свои права. Народ посягнул на Республику и потому был повержен. Но, в сущности, чем был июнь 1848 года? Возмущением народа против самого себя!
Теперь, не упуская из виду предмета нашего изложения, не делая отступлений, да будет нам позволено остановить внимание читателя на двух баррикадах, исключительных по значению, какое они имеют для характеристики этого восстания.
Одна преграждала вход в Сент-Антуанское предместье, другая защищала подступы к предместью Тампль. Кто видел на фоне ясного июньского неба эти жуткие шедевры гражданской войны, тот никогда их не забудет.
Сент-Антуанская баррикада была чудовищно огромна. Она достигала высоты третьего этажа и равнялась семистам шагам в длину. Баррикада пересекала из угла в угол широкое устье пригорода, то есть целых три улицы. Изрытая, искромсанная, извилистая, изрубленная, в огромных дырах, словно оттого, что ее прогрызли гигантские зубы, с нагромождениями, превращенными в бастионы, выступая мысами туда и сюда, могуче опираясь на выступы больших зданий, — она высилась циклопическим сооружением в глубине этой страшной площади, уже пережившей 14 июля. Девятнадцать баррикад спускались по улицам позади этой главной баррикады. Достаточно было взглянуть на нее, чтобы почувствовать степень агонии страданий, несущихся с бешеной скоростью к катастрофе. Из какого материала построили эту баррикаду? Из обломков трех шестиэтажных домов, специально для этого разрушенных, говорили одни. Она воздвигнута волшебством народного гнева, говорили другие. Она являла печальное зрелище постройки, возведенной ненавистью, — руины. Можно было с одинаковым удивлением спросить, кто построил это, а также: кто это разрушил? То была импровизация возмущения. Тащи! Вот дверь, вот решетка. Бросай, толкай, сшибай, ломай. В одну груду были свалены: камни мостовой, брусья, балки, стулья, железные прутья, лохмотья и клочья, имущество нищеты и несчастий. Это было и величаво, и ничтожно. Это было грозное братанье обломков вещей, чуждых друг другу. Сизиф* накидал сюда свои скалы, а Юпитер подбросил черепков. Получилось сочетание, наводящее благоговейный ужас. Это был босяцкий акрополь. Опрокинутые тележки цеплялись друг за друга на отвесном склоне, огромная повозка торчала сверху выставленными к небу осями и казалась толстым шрамом на этом беспокойном лице баррикады; широкий омнибус, весело поднятый на руках на самую вершину сооружения, как бы специально своим забавным видом усиливая впечатление от этого дикого зрелища, выставлял наверх свое дышло, словно для какой-то неведомой запряжки воздушными конями. Эта исполинская груда, созданная волнами мятежа, рисовалась каким-то нагромождением Оссы на Пелион*, на которых сгрудились все революции: 1793 год падал на 1789, 9 термидора* — на 10 августа*; 18 брюмера* — на 21 января*, вандемьер* — на прериаль*, 1848 год на 1830. Место было достойно усилий, и эта баррикада стоила того, чтобы возникнуть на окраине, которая обеспечила падение Бастилии.
Если бы океан сам воздвигал преграды, то он строил бы их именно так, как была сооружена эта баррикада. Бесформенные нагромождения напоминали бурю потока. Какого потока? Потока живой толпы. Казалось, что закаменела в цепенящей неподвижности суетливая суматоха Содома.
Казалось, что слышишь над баррикадой, похожей на улей, жужжание огромных мрачных пчел, бурно стремящихся вперед. Что это: дикая чаща, вакханалия, крепость? Казалось, что все это возникло от единого взмаха какого-то безумного крыла. Было что-то похожее на клоаку в этом странном сооружении.
Было видно, как, словно ожидая пушечных выстрелов, тут валялись стропила, целые углы мансард, оклеенные цветными обоями, оконные рамы, торчащие из обломков, разрушенные куски печей, шкафы, столы, скамьи, кричащий беспорядок из тысячи вещей нищенского скарба, брошенных даже попрошайками, вещей, носящих на себе следы гнева и разрушения. Здесь были лохмотья и обломки, словно выброшенные одним взмахом колоссальной метлы из Сент-Антуанского предместья и по нужде сложенные в баррикаду. Обрубки дерева, похожие на плаху, разорванные цепи, бревна с перекладинами, похожие на виселицы, торчащие горизонтально колеса — все давало этому странному сооружению сходство с камерой пыток, полной старинными орудиями казней, испытанных народом. Сент-Антуанское предместье все превращало в оружие; все, что только гражданская война могла бросить против общества, исходило оттуда. Это не было битвой, это были припадки бешенства; карабины и мушкетоны стреляли осколками посуды, костями, пуговицами, вплоть до колесиков от стола и мебели, опасных потому, что они были сделаны из меди.
Эта баррикада неистовствовала. Она испускала крики и возгласы непередаваемой силы. Толпа, как буря, шумела над ней и венчала ее скаты и выступы суматохой горячих голов. Она была украшена щетинистым гребнем ружей, сабель, палок, топоров, пик и штыков. Широкое красное знамя хлопало краями полотнища под сильным ветром. Слышались крики команды, революционные песни, бой барабана, рыдания женщин и взрывы адского смеха умирающих с голоду. Она была безмерна и полна жизни. От нее, словно от шерсти наэлектризованного зверя, исходили искры и треск. Дух революции веял над ее вершиной, и голос народа гремел оттуда подобно голосу гневного бога. Эта груда мусора словно излучала небывалое величие. Какая-то куча отбросов внезапно стала величавой, как гора Синай. Как я уже отметил, она нападала именем Революции... Что?! Да, Революции. Она — эта баррикада — этот сплошной случай, заблуждение, ужас, неизвестность, она видела перед собой учредительное собрание, верховную власть народа, всеобщее избирательное право. Нацию-Республику. Это была "Карманьола"*, бросающая вызов "Марсельезе".
Вызов бессмысленный, но полный героизма, как и весь этот пригород — старый герой революции.
Предместье и его Редут оказывали друг другу поддержку и помощь. Предместье опиралось на Редут, а Редут крепко сидел на предместье. Огромная баррикада напоминала скалы, о которые разбивались стратегические ухищрения прославившихся в африканских походах генералов*. Ее отверстия, ее наросты, дыры и гнезда словно строили чудовищную гримасу и издевались надо всем под клубами дыма. Ружейные пули и снаряды поглощались ею бесследно, ядра делали новые дыры в старых. К чему было обстреливать этот хаос?
И полки солдат, привыкшие к самым диким картинам войны, смотрели беспокойным взором на этого страшного зверя, огромного, как гора, и щетинистого, как дикий кабан.
В четверти мили отсюда, на углу улицы Тампль, выходящей к бульвару близ Шатодо, горделиво возвышалась другая баррикада. Ее было видно издали, с другой стороны канала, от барьера Бельвиль, где она, подходя к магазину Даллемань, возвышалась до уровня второго этажа и крепко соединялась со стенами домов и с мостовой, словно улица сама круто свернула, чтобы перегородить новой стеной дорогу себе самой. Эта баррикада дышала холодом, была прямой, отчетливо выверенной по отвесу и вытянутой в ниточку. Она не была скреплена цементом, но, подобно римским постройкам, скреплялась правильностью строительной подгонки частей. Высота баррикады говорила и о ее толщине. Все ее линии были очень строги и чисты.
На равных расстояниях там и здесь по серой поверхности стены виднелись бойницы, почти неразличимые. Издали они сливались в какую-то черную массу. Улица казалась пустынной. Окна и двери были наглухо закрыты, а в глубине высилась эта плотина, превращавшая улицу в какую-то ловушку. Стена была неподвижна и спокойна. Не было видно ни души, не было слышно ни звука, ни крика, ни шума, ни вздоха.
Тишина гробницы.
Солнечный свет июньского дня заливал потоками это страшное сооружение.
Такова была баррикада предместья Тампль.
Подойдя к этому месту, даже самые смелые люди, видя ее, поражались, становились задумчивыми, как перед таинственным явлением природы. Оно поражало выверенностью, четкостью, симметричностью частей, погребальным покоем и порядком. Казалось, что начальником этой страшной баррикады был или искусный геометр, или выходец из ада. Глядя на нее, говорили шепотом.
Время от времени, если кто-нибудь из солдат, офицеров или народных представителей осмеливался пересечь пустынную мостовую, слышался легкий свист, острый и слабый в то же время, и идущий падал, убитый или раненый, а если ему удавалось уцелеть, то слышно было, как пуля сбивала штукатурку и вонзалась в стену.
Тут и там валялись трупы, и по мостовой растеклись лужи крови. Я помню белую бабочку, залетевшую на эту улицу. Лето не отрекалось от своих прав.
В округе все подъезды были забиты ранеными.
Чувствовалось, что кто-то берет на мушку, кто-то невидимый целится и что улица во всю свою длину находится под прицелом.
Сгрудившись позади изгиба, который делала старинная застава Тампля у канала, солдаты атакующей колонны, мрачные и полные раздумья, наблюдали за этим суровым редутом, созерцая его неподвижность, Раздумывая о неприступности этого сооружения, сеющего смерть. Некоторые смельчаки подползали, лежа на животе, к середине крутого моста, заботясь о том, чтобы кивер не высовывался из-за защиты. Храбрый полковник Монтэйнар с дрожью в голосе выражал свое восхищение баррикадой:
— Как это сделано! Ни один камешек не торчит! Это прямо фарфоровая игрушка!
В эту минуту пуля пробила орденский крест у него на груди. Полковник упал.
— Подлецы! — крикнул он. — Ведь они прячутся. Они боятся показать нос!
Баррикада Тампля, защищаемая восьмьюдесятью революционерами, три дня держалась против десяти тысяч атакующих ее солдат. На четвертый, когда сделали так же, как при взятии Константины* и Зааши, то есть когда пробили соседние дома и влезли на крыши, баррикада была взята. Ни один из восьмидесяти бойцов не скрылся бегством, они были убиты все до единого за исключением Бартелеми, ее вождя, о котором речь пойдет особо. Сент-Антуанская баррикада была шумом и громом, баррикада Тампля была мертвым молчанием. Обе они поражали зловещим несходством. Одна — как пасть, другая — как маска! Гигантское и мрачное июньское восстание носило печать гнева и загадочности, и потому в первой баррикаде чувствовался дракон, а во второй запечатлелся сфинкс.
Два человека были их строителями: один — Курнэ, другой — Бартелеми. Сент-Антуанскую возглавлял Курнэ, баррикаду Тампля — Бартелеми.
Каждый носил в себе черты, переданные своей постройке.
Курнэ был огромного роста, широкоплечий, с красным лицом, могучими кулаками, смелым сердцем, строгой душой, взглядом страшным и в то же время чистым. Он был бестрепетным, энергичным, гневным, бурным, но не было более сердечного человека и более страшного бойца.
Война, борьба, схватка — это было его родной стихией, вдыхая ее, он был счастлив. Он был морским офицером: его жесты, движения, голос ясно говорили о том, что это дитя океана, что это уроженец штормов и бурь. И в битвах он продолжал работу морского урагана. В нем сияли гений и божественность Дантона, так как в Дантоне были черты Геркулеса.
Бартелеми, худощавый, тощий, бледный и медлительный, представлял собой человека из породы мальчишек, переживших трагедию. Полицейский агент ударил его по щеке, в ответ на этот удар Бартелеми его подстерег, убил и семнадцати лет был отправлен на каторгу. Он вышел оттуда и сделал эту баррикаду.
Позже — роковой случай! — в Лондоне, где оба они были изгнанниками, Бартелеми убил Курнэ. Это был бессмысленный поединок. Немного времени спустя, захваченный жерновами таинственных событий, к которым примешалась страсть, став жертвой катастрофы, в которой французское правосудие нашло немало обстоятельств, смягчающих его вину, он был приговорен английским судом к смертной казни. Бартелеми был повешен.
Наше несовершенное общественное устройство организовало жизнь так, что в силу материальной нищеты и в силу непросветленности морального сознания этот несчастный человек, полный ума, твердый и верный, быть может великий человек, начал свою жизнь во Франции каторгой и закончил ее в Англии на виселице. Бартелеми во всех случаях водружал только одно знамя — черное.
© «Онлайн-Читать.РФ», 2017-2024
Обратная связь